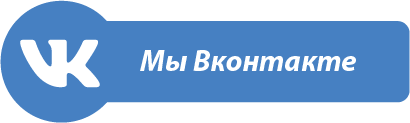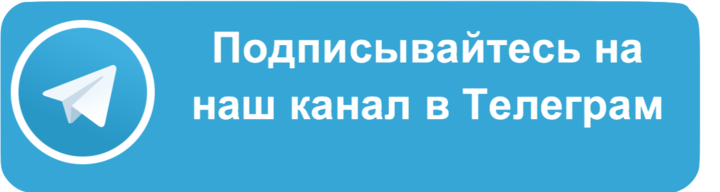Одним из доказательств наступления реакции в годы правления императора Александра III обычно называют знаменитый «циркуляр о кухаркиных детях». Согласно распространенной точке зрения, в данном циркуляре содержались рекомендации директорам гимназий и прогимназий осуществлять фильтрацию детей при приеме в учебные заведения. Цель таких рекомендаций была вполне понятна – обеспечить своеобразную сегрегацию по социальному признаку, не допуская в гимназии и прогимназии детей малообеспеченных слоев населения.
Но в действительности какого-либо официального законодательного или иного нормативного акта под названием «циркуляр о кухаркиных детях» просто не существовало. Данные рекомендации лишь излагались в докладе, который 18 июня 1887 года императору Александру III представил министр народного просвещения Российской империи Иван Давыдович Делянов.

Известный российский государственный деятель Иван Давыдович Делянов (1818—1897), прежде руководивший Публичной библиотекой, занял пост министра народного просвещения 16 марта 1882 года. Выбор императора не был случайным: Делянов считался деятелем консервативной ориентации, поэтому его назначение лоббировали граф Дмитрий Толстой, Константин Победоносцев и Михаил Катков. В свое время, когда граф Дмитрий Толстой занимал пост министра народного просвещения, Иван Делянов был товарищем (заместителем) министра народного просвещения, что и обусловило протекцию со стороны графа.
Интересно, что, пока у власти находился император Александр II, проводивший довольно либеральную политику, Делянова если и можно было назвать человеком консервативных взглядов, то весьма умеренным в своем консерватизме. Он ничем особо не выделялся среди прочих государственных чиновников, а в бытность руководителем Публичной библиотеки отметился исключительно положительными делами на этом посту, заботясь о всестороннем развитии вверенного ему учреждения. Именно он был автором крайне либерального устава библиотеки, в котором говорилось, что «библиотека, имея назначением служить науке и обществу, открыта для занятий всем желающим». Забракован этот устав, между прочим, тогда был как раз графом Дмитрием Толстым, а либеральная общественность в то время очень высоко оценила этот проект.
Поскольку после убийства Александра II в стране наметился явный консервативный поворот, сфера народного просвещения была признана одной из важнейших в плане борьбы с революционными настроениями. За системой образования надлежало следить очень тщательно, чтобы, во-первых, исключить возможность дальнейшей радикализации учащейся молодежи, распространения среди них революционных идей, а во-вторых – максимально ограничить доступ к образованию низших слоев населения. При этом, если говорить именно об образовательной составляющей, то в годы правления Александра III она развивалась отнюдь не плохо – так, особое внимание уделялось совершенствованию технического образования, поскольку этого требовали задачи развития промышленности, железнодорожного сообщения, морского флота.
Став министром образования, Делянов быстро уловил изменившийся вектор внутренней политики и переориентировался на крайний консерватизм. Он переподчинил начальное образование Святейшему Синоду, в ведение которого были переданы все церковно-приходские школы и младшие школы грамотности. Что касается высших учебных заведений, то в 1884 году была ограничена университетская автономия, профессора стали назначаться, а студенты теперь сдавали специальные государственные экзамены.
В 1886 году Делянов распорядился закрыть Высшие женские курсы. Правда, в 1889 году их вновь открыли, но программа обучения была существенно изменена. Кроме того, Делянов серьезно ограничил возможности поступления лиц еврейской национальности в высшие учебные заведения
империи, введя процентные нормы для их поступления.

23 мая 1887 года Делянов обратился к государю императору с предложением ввести законодательный запрет приема в гимназии детей большинства российских сословий кроме дворян, духовенства и купцов. Однако Александр III, хотя и был человеком консервативным, не был лишен здравого смысла и не собирался идти на столь жесткие меры. Ведь такой закон лишил бы возможности получения качественного образования детей мещан и крестьян.
Принятие подобного закона было бы серьезным ударом и по экономике страны, поскольку она требовала все больше и больше квалифицированных специалистов в самых разных областях и одни лишь дворяне, духовенство и купцы уже не были в состоянии обеспечить эти потребности, да и дети духовенства и купцов обычно шли по стопам родителей, а дети дворян – на военную или государственную службу.
Император это прекрасно понимал, но и консервативные деятели не собирались отказываться от своей позиции – они видели в массовом гимназическом образовании очень серьезную опасность для существующего строя. Хотя революционерами часто становились и дворяне, в том числе титулованные (например, князь Петр Кропоткин), но все же основной силой революционного движения были студенты – выходцы из мещанской и крестьянской среды.
Во время совещания министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министерством финансов, обер-прокурора Святейшего Синода Российской империи и министра народного просвещения был сделан вывод о необходимости ограничения «вертикальной мобильности» из «неблагородных» слоев населения за счет создания барьеров в получении образования для мещан и крестьян. Таким образом, Делянов заручился поддержкой Победоносцева и ключевых министров, что придало ему еще большей уверенности.
В результате совещания императору был представлен специальный доклад «О сокращении гимназического образования». Именно в нем и шла речь о так называемых «кухаркиных детях», хотя этот термин и не использовался. Делянов подчеркивал, что вне зависимости от внесения платы за обучение необходимо рекомендовать руководству гимназий и прогимназий принимать на обучение только тех детей, кто находится на попечении лиц, способных поручиться о правильном домашнем надзоре за ними.
В докладе подчеркивалось:
Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию.
Эти слова Делянова впоследствии и дали основание недовольной общественности прозвать доклад «циркуляром о кухаркиных детях». Чем не угодили Делянову повара, прачки и мелкие лавочники и чем их дети были менее благонадежны, чем дети крестьян или промышленных рабочих, остается только догадываться. Почему-то именно перечисленные профессии, представители которых, кстати, как раз и не играли никакой существенной роли в революционном движении, были выбраны министром народного просвещения в качестве олицетворения социального неблагополучия и политической неблагонадежности.
Министр Делянов просил окончательного одобрения этой рекомендации самим императором, поясняя, что это позволило бы выйти в Комитете министров с представлением об ограничении известным процентом приема в прогимназии и гимназии детей евреев, к которым могла бы быть применена мера о недопущении в гимназии и прогимназии детей евреев из низших сословий.
Но ни к каким реальным последствиям для российского гимназического образования доклад министра Делянова, как ни странно, не привел. Во-первых, обучение в гимназиях было платным. Соответственно, в любом случае отдавать своих детей в гимназии могли лишь те родители, кто был в состоянии оплачивать обучение. Среди представителей перечисленных профессий таких людей практически не было.
Во-вторых, доклад Делянова подчеркивал возможность предоставления права на обучение в гимназии одаренным детям перечисленных профессий. Кстати, одаренные дети и так по ограниченной квоте могли быть приняты на обучение в гимназии на казенный счет. То есть, империя все же не открещивалась от их обучения, хотя понятно, что доказать свою одаренность было очень и очень сложно.
Единственной мерой, способной реально ограничить возможности выходцев из низших слоев в поступлении в гимназию, было закрытие подготовительных классов при гимназиях. Поскольку представители неблагородных слоев самостоятельно готовить детей к поступлению в гимназию, по понятным причинам, не могли, закрытие подготовительных классов действительно было серьезным ударом.
Тем не менее, «циркуляр о кухаркиных детях» вызвал крайнюю бурю негодования в российском обществе. Особенно возмутились революционные и либеральные круги. Это и было понятно – министр Делянов использовал в своем докладе тон, который был бы уместен в XVIII веке, но не в самом конце XIX века, когда весь мир уже изменился, и заниматься откровенной дискриминацией собственных подданных по социальному признаку было весьма недальновидно.
Тем не менее, текст доклада был разослан всем попечителям учебных округов. После этого в Российской империи было упразднено большинство подготовительных классов при гимназиях. Кроме того, имели место и случаи отчисления из гимназий детей из «неблагородных» сословий. Естественно, что эта политика получила всестороннее освещение в революционной и либеральной прессе, которая получила возможность еще раз заклеймить реакционную составляющую политического курса Александра III.
Резюмируя образовательную политику Российской империи в «период реакции», следует отметить ее крайнюю недальновидность. Правящие круги империи были убеждены, что народное образование является одной из главных угроз существующему порядку. С образованием для широких слоев населения связывалось «разложение» населения, считалось, что образование якобы «вредно» для рабочих и крестьян. При этом не учитывалось, что практически все ключевые фигуры российского революционного движения были выходцами либо из дворян, либо из духовенства, либо из купечества, а разночинцы лишь следовали за ними и принимали популяризуемые ими идеи.
К прямым последствиям ограничений на образование можно отнести, например, и радикализацию еврейского населения. Еврейская молодежь из обеспеченных семей в большинстве своем выезжала для получения высшего образования в страны Западной Европы, где существовали в то время практически неограниченные возможности для знакомства с новыми революционными идеями. В Россию молодые студенты и выпускники вузов возвращались не только с высшим образованием, но и с «полным багажом» в виде революционных идей и установленных с западными революционерами личных связей. Между тем, может этого и не случилось бы, получай они образование в Российской империи.
Ограничения на образование для представителей различных этнических и социальных групп прямо вредили и экономическому развитию страны. Вместо того, чтобы создавать всесторонние условия для повышения грамотности населения, получения им среднего и высшего образования, особенно по востребованным техническим специальностям, власть искусственно консервировала устаревшие социальные порядки, препятствовала вертикальной социальной мобильности, стремилась удержать крестьян и мещан в приниженном социальном положении и не допустить их продвижения на какие-то значимые позиции. Понятно, что правящая элита опасалась за свое положение, стремилась сохранить максимум своих привилегий, не обладая при этом политической дальновидностью и способностью к прогнозированию дальнейшего развития событий. Спустя тридцать лет она потеряла все.
В результате Россия получила технологическое отставание и дефицит квалифицированных кадров на фоне переизбытка неквалифицированной и неграмотной рабочей силы, воспроизводившейся в крестьянской среде. Закономерным результатом такой политики крайней социальной поляризации и дискриминации и стали три революции начала ХХ века, вторая из которых уничтожила самодержавие, а третья стала отправной точкой к колоссальному и невиданному прежде социально-политическому эксперименту – созданию советского государства.
Автор:Илья Полонский